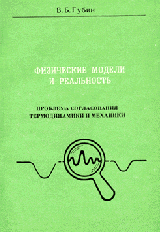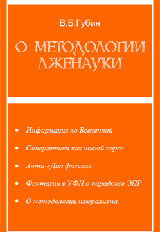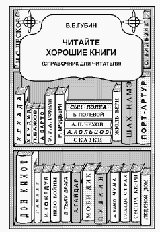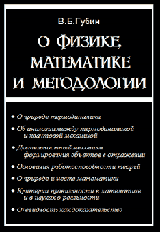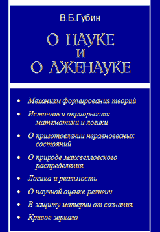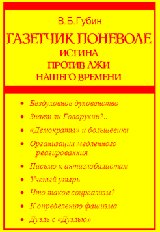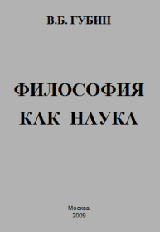|
Страница 12 из 21 II. 3. Главу 12 он начинает с повтора: «Современная физика самым драматическим образом подтвердила одно из основных положений восточного мистицизма, смысл которого заключается в том, что все используемые нами для описания природы понятия ограничены, что они являются не свойствами действительности, как кажется нам, а продуктами мышления - частями карты, а не местности.» (С. 138)
Что полученные наукой теории есть приближенные образы реальности, а не сама реальность, известно диалектической теории познания не менее века, не позднее «Материализма и эмпириокритицизма». Во-вторых, он не замечает, что в этой критике идет против здравого смысла. Все люди, кроме разве совсем диких, прекрасно различают местность и ее карту, однако почему-то продолжают пользоваться не только картой, но зачастую даже еще менее точными рассказами о местности. Ему бы здесь задуматься: в чем дело? Однако он, ослепленный обещаниями и верой в возможность получить всё - т.е. журавля с неба, - не только не выясняет, как подобало бы ученому, причину, но и желает выпустить из рук уже пойманную синицу.
Затем он, при продолжении доказательства дефектности пользования «иллюзиями», добавляет несообразностей: «При любом расширении сферы наших знаний становится очевидной ограниченность возможностей рационального мышления, и нам приходится изменить некоторые из наших понятий или даже отказаться от них.» (С. 138)
Ну конечно, плоха карта местности - сделайте поточнее. Мы это знаем. Что тут патологического? Ограниченность теории, модели или представления и означает необходимость их уточнения, замены. Но отказ от прежних не доказывает полного отсутствия в них объективного содержания: то есть нечто от реальности теорией было ухвачено, все же она передавала некоторое знание! Мы же его уточняем, а не отбрасываем, а это дела совершенно разные. Он, как недиалектик, подобно Фейерабенду (см. [25] и третий параграф третьей главы в [14]), фактически полагает, что при любых изменениях «знание» просто отбрасывается и заменяется новым - если вообще в такой ситуации это можно назвать знанием, поскольку оно тоже будет заменено, т.е. отброшено как, выходит, очередная ошибка. Однако понимание знания как наличия некоторого объективного содержания в теории, зависимости теории от внешней реальности, вполне позволяет понимать последовательную смену теорий именно как увеличение объективного содержания, как рост знания, а не как цепь замен одной ошибки другой. В таком же духе следует понимать и кумулятивность познания (которую многие отрицают по причине такой же своей недиалектичности).
Кроме того, ограниченность возможностей в данный момент он неявно и бездоказательно расширяет до наличия предела в познании, практикующем коррекции и уточнения.
Ну и «рациональный подход» он путает с рациональным мышлением как чисто логическим. Познание совершается не только собственно мышлением как аналитической деятельностью, но и всей познавательской деятельностью, включающей практический опыт, анализ результатов и синтез выводов. С одним «чистым» мышлением далеко не продвинешься, помешает нарастание схоластики. Но как раз примерно к такому состоянию и призывает нас Капра: исключительно созерцанием постичь абсолютную истину. Даже без мышления.
Далее Капра цитирует Ашвагхоши: ««...понятие пространства - лишь одно из порождений разграничивающего сознания, ... за ним не стоит никакой реальности.»» (С. 140) И добавляет: «То же самое можно сказать о понятии времени. Восточные мистики считают, что эти понятия - понятия пространства и времени - привязаны к определенным состояниям сознания. Медитация позволяла им выйти за пределы обычного состояния и осознать, что условные и относительные представления о пространстве и времени не представляют собой высшей истины.» (С. 140-141) Здесь собрана масса несообразностей.
Если вы будете игнорировать ту реальность, которая стоит за субъективным понятием пространства и как-то отражается в нем, то непрестанно будете получать наказания, например - в виде, субъективно выражаясь, ударов носом в стены (что, возможно, отсутствует в «нерасчлененном абсолютном знании» мистиков). И «то же самое можно сказать о понятии времени.» Именно практика избегания таких постоянных неприятностей свидетельствует о наличии объективного содержания в этих понятиях, т.е. что за ними именно стоит реальность. Хотя, разумеется, не вполне точно и полно отражаемая, что можно исправлять в дальнейшем. И выдвигать как довод против этих понятий то, что они «не представляют собой высшей истины» - выглядит поистине дико не только с точки зрения нашего прежнего методологического образования, но и с точки зрения нормального современного физика. Капра, разумеется, никак не ориентируется в диалектике относительной и абсолютной истины.
Ошибкой также будет говорить, что эти понятия привязаны к определенным состоянием сознания. Нет, эти понятия общезначимы, как и другие физические понятия и объекты, и выведены не из и для чувственных состояний, а определенной познавательской деятельностью, которую более или менее можно изложить операционально (подробнее см. [26]).
Дальше автор довольно путано рассказывает о специальной и общей теории относительности и о диаграммной технике рассмотрения взаимодействий элементарных частиц с выводом о всеобщей относительности в отношении пространства и времени и в то же время об их взаимной увязанности. При этом каждое отклонение от картины классической механики он представляет как драматическую катастрофу западного подхода. И, разумеется, мистики, как он и они сами сообщают, все эти новости легко воспринимают и даже видят более чем трехмерные пространства. Оригинально, что современной теории он приписывает обратимость как выдающуюся особенность, не замечая, что классическая механика тоже была обратимой. В заключение он, как бы опять осуждая «иллюзии», цитирует Свами Вивекананду: «Время, пространство и причинность похожи на стекло, сквозь которое мы смотрим на Абсолют... В самом же Абсолюте нет ни времени, ни пространства, ни причинности.» (С. 165) Какой-то ущербный, неполноценный у него Абсолют: он почему-то позабыл включить в себя нас с нашими «иллюзиями». Все же, судя хотя бы по явной успешности западной науки и техники, по-видимому, и в реальности без нас что-то есть, что позволяет и обеспечивает появление у нас и определенную работоспособность представлений о времени и пространстве.
|