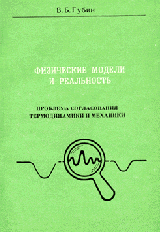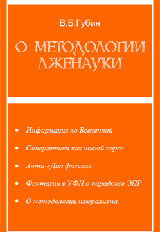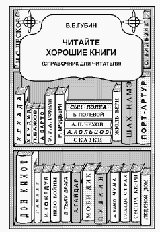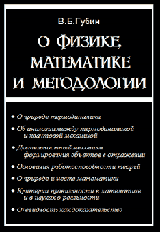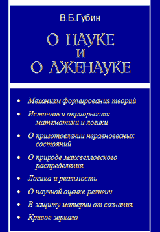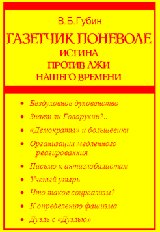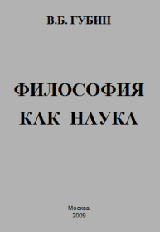Методология познания и нравственность |
|
Страница 1 из 3 «Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. Проблемы математического образования.» Труды Международной конференции, посвященной 75-летию члена-корреспондента РАН, профессора Л.Д.Кудрявцева. Том 3. Изд. Российского университета дружбы народов. 1998 г. Стр. 108-111. МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ В.Б.Губин
Вопрос о связи поисков истины и направления обучения с нравственностью возник не вчера. Вообще нравственность и знание - это, так сказать, два берега у одной реки - реки жизни. Бертран Рассел считал [1]: «На мой взгляд, благая жизнь - это жизнь, вдохновляемая любовью и направляемая знанием. ¼Ни любовь без знания, ни знание без любви не могут привести к благой жизни.» А в настоящее время эта проблема стоит особенно остро. Так, в школах втихую, как само собой разумеющееся, практически без какого-либо сопротивления со стороны как научного, так и преподавательского сообществ стали преподавать историю и литературу в явно искаженном виде. Почти беспрепятственно пропагандируются религия, другие суеверия и лжеучения типа астрологии. Передергиваются, смешиваются понятия уважения чувств верующих с уважением к самой религии. Затемняется вопрос о том, что преподавать: более или менее познанную истину или суеверные россказни старых бабок. Закрывать на это глаза научному сообществу нехорошо. Его стеснительная молчаливость в этом случае способствует сну разума, когда порождаются чудовища. Но здесь я хочу сказать о более узком, более, так сказать, профессионально-технологическом аспекте нравственного поведения при поиске истины и в преподавании чего-то научно установленного. Известный в прошлом экономист Маркс называл безнравственным человека, который делает научные заключения, сообразуясь с теми или иными человеческими интересами. Действительно, наука после средних веков в общем рассталась с подходом к природе с вопросами «зачем, с какой целью» и перешла к вопросам «что происходит, как и почему». Ученый и должен выяснять эти вещи такими, как они есть, нравится ему эта истина или нет, не привнося в ответы на них ничего личного. Герцен в ответ на обвинения церковниками ученых в гордыне, писал [2]: «Многие ... думают, что это гордость мешает верить. Но отчего гордость не мешает учиться? Что может быть смиреннее работы мыслителя, наблюдающего природу? Он исчезает как личность¼ Он знает, как он далек от полного ведения, и говорит это.» В процессе познания ученый должен бесстрастно констатировать то, что есть, стараясь отмести эффекты своего влияния или определить их место и величину вклада. Попытки пренебрежительно к этому отнестись должны рассматриваться с точки зрения профессиональной и как невежественные, и как безнравственные - подобный ученый теряет уважение и как неподготовленный, и как нечестный (в отличие от какой-нибудь старой бабки, которую нельзя назвать нечестной только лишь из-за ее необразованности). С такой точки зрения мотивы, скажем, К.Поппера, с которыми тот подступил в двадцатые годы к философии в части критерия истинности и научности теорий, о чем он сам рассказывал, и которые явно повлияли на его методологические результаты, не могут считаться ни научными, ни образцовыми в отношении нравственности. Он пожелал опровергнуть некую методологию - исторический материализм, - потому что она его чем-то раздражала, - вместо того, чтобы выяснять, верна она или нет! Подобная ненаучность безнравственна, а безнравственность антинаучна. То, что было в какой-то степени простительно в давно прошедшие века, не обязательно сохраняет свою извинительность в двадцатом веке с его довольно развитой научной методологией, которую ученый обязан знать. Для человека, объявляющего себя ученым, недопустимо не знать, что дважды два - четыре. Но так же для объявляющего себя философом безнравственно незнакомство с диалектикой (на непонимание его Поппером справедливо указывал Библер [3]), крупнейшей частью той методологии, которую ничтоже сумняшеся пытался опровергать Поппер. В результете совсем не случайно он в критике и развитии метода верификации продолжал крутиться со своей фальсификацией в том же порочном метафизическом, антидиалектическом, антинаучном круге. Антинаучный, недиалектический редукционистский метод, также не по извинительному неведению, а по причине поверхностной научности примененный П.Фейерабендом к вопросу о совместимости, согласованности и преемственности естественнонаучных теорий, привел его к принципу «эпистемологического анархизма» или «анархического плюрализма» - теории, очень подходящей для людей, умывающих руки. Таковы же «теоретический плюрализм» Х.Шпинера и «поссибилистский плюрализм» А.Несса. Методологический плюрализм вообще примечателен тем, что доказывает невозможность науки научными методами. Это очень мило. В то время как у Фейерабенда это проводится совершенно искренне, чистосердечно, в простоте душевной (хотя и не извинительно для человека, выдающего себя за ученого), у других, так скажем, наших «новых ученых» это проводится более хитро, с помощью фигуры умолчания. Вот как об этой тактике сказал Б.И.Пружинин [4], разбирая статью Раца: «¼аргументацию Раца отчетливо маркирует одна очень показательная особенность: в статье, посвященной проблематике фундаментального и прикладного в научном познании и образовании, ни разу не возникло необходимости употребить термин “истина” в позитивном смысле. Лишь единожды автор говорит, что он не претендует на истину. И это, бесспорно, выглядит очень по-современному, очень плюралистично¼» О такой современности хорошо сказал Г.Честертон [5]: «Дорога столетий усеяна трупами “истинно современных людей”.» Однако еще более существенно то, что сей плюрализм взваливает ответственность за выбор решения и действий на дядю, которого в результате всегда можно порицать, так как никогда действия не бывают вполне хорошими, и всегда есть, к чему прицепиться. Этой суперобъективностью вовсе не следует гордиться, как кому-то может показаться. Эта позиция весьма смахивает на оппозицию уголовников по отношению к любому регулярному режиму. |