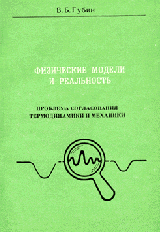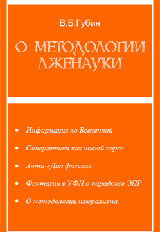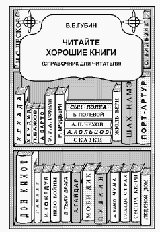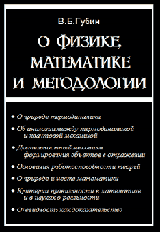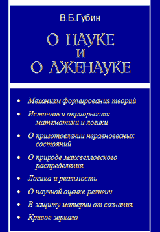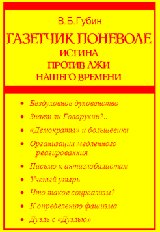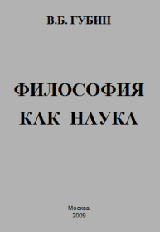Об отношении математики к реальности |
|
Страница 1 из 7 «Математика и опыт» // Сб. статей. М.: Изд. МГУ. 2003 г. ОБ ОТНОШЕНИИ МАТЕМАТИКИ К РЕАЛЬНОСТИ В.Б.Губин О субъективном порождении границ Автор настоящей заметки пришел к «математической» тематике вполне неожиданно: как к некоторому следствию результатов, полученных при исследованиях в двух других направлениях. Одно из них заключалось в попытке разобраться в проблеме обоснования термодинамики и статистической механики. В этой проблеме есть две фундаментальных трудности. Одна связана с непосредственной (фактически - объективистской и редукционистской) несовместимостью детерминизма и вероятности, с разницей размерностей фазовой траектории (и тем более фазовой точки) и фазового объема. Вторая - с невозможностью (опять же объективистской и редукционистской) согласовать термодинамическую необратимость с обратимостью механики. Обе эти трудности проявляются при введении и изучении характера и поведения классической термодинамической величины - энтропии. На ее примере поясню упомянутые трудности. Для традиционного определения энтропии следовало в первую очередь определить степень неравновесности распределения частиц (скажем, по объему), то есть как-то обоснованно ввести функцию распределения, чтобы оценить вероятность состояния. Замечу, что в некоторых курсах статмеханики текст неожиданно чуть ли не прямо начинается с предложения: «Возьмем распределение...» Однако оказывается, что какого-то объективно выделенного, преимущественного разбиения области на части не существует, поэтому, строго, формально говоря, энтропия системы механических частиц в объеме никаким естественным образом, чисто объективно не определима. Вообще говоря, эта трудность давно известна. О ней написано, например, даже в популярной книжке Б.В.Гнеденко и А.Я.Хинчина [1], но в учебниках для вузов и в подавляющей массе курсов для специалистов о ней не упоминают. Явно многие авторы, хорошие прикладники и преподаватели, о ней просто не задумывались и уж во всяком случае не придают ей принципиального значения. Так что в учебниках вероятность состояния традиционно иллюстрируют картинкой объема, разбитого пополам, с небольшим числом частиц в одной части и с большим в другом, простодушно не подозревая субъективной обусловленности выбора такого разбиения из несчетного множества других абстрактно возможных, которые привели бы, естественно, к другим оценкам состояния. Это первый субъективный момент структурирования отражения состояния. Без этого шага, без вмешательства субъективного ни о термодинамическом состояния и ни о каком ином, отличном от механического (предполагаемого исходным в модели), не могло быть и речи. Более пристальный анализ показал, что в действительности разбиения определяются (и задача о вероятности обнаружения того или иного распределения частиц ставится однозначно) в каждом случае конкретными действиями субъекта (например, реальным введением перегородок), причем эти действия очень просты и грубы по сравнению, скажем, с большинством абстрактно возможных и, кроме того, весьма единообразны у одного субъекта и у разных, что создает впечатление естественности, единственности и объективности разбиения. Но пусть некоторое разбиение выбрано и более или менее интуитивно приемлемая оценка значения энтропии системы задана, определена. И пусть теперь в начале процесса состояние явно неравновесно по обычным представлениям, например - есть выделенный сгусток частиц. Термодинамика вслед за обычным опытом утверждает, что этот сгусток рассосется, и в дальнейшем навсегда установится равновесное состояние. Однако механическая природа системы не допускает этой необратимости. Теорема Пуанкаре о возвращении даже указывает время, за которое система по крайней мере один раз вернется к исходному состоянию с заданной точностью. В итоге получается, что на том уровне, на котором существует механика, термодинамика не получается, отсутствует. Как разъяснил М.Смолуховский [2] в начале ХХ века, термодинамическая необратимость есть не объективная вещь, не закон природы самой по себе (без субъекта), а впечатление субъекта, который не может наблюдать очень долго и попросту не может дождаться чрезвычайно редкого возврата заметно неравновесного состояния (а возвращения мелких отклонений легко наблюдаются в микроскоп). Это объяснение - правильное. Таким образом, есть и второй субъективный момент структурирования реальности (в данном случае - мера временного поведения систем), в результате которого перед субъектом возникает специфический образ реальности (необратимая термодинамика), сам собой не следующий из субстрата системы, не порождаемый им. Итак, получается, что термодинамическая система не возникает сама, а выделяется некоторыми действиями, ограничениями и предпочтениями субъекта. Субъект в соответствиями со своими свойствами и обстоятельствами бытия набрасывает сеть окон, через которые видит мир, и мир предстает перед ним в виде объектов, которых в формально-строгом виде нет (хотя они и зависят от материала, который отражают, на котором строятся). Так, реально происходят отдельные удары частиц о стенки, а не действует какое-то постоянное, размазанное по поверхности объема давление, но тем не менее оказывается возможным в некоторых рамках представить, изобразить мир как термодинамический, да так убедительно, что многие о нем так и думают на самом деле. Во всяком случае, объект появляется в отражении после некоторого действия по его выделению, по структурированию - не физическому, не реальному, а как бы навязываемому материалу в процессе его отражения. [3] |